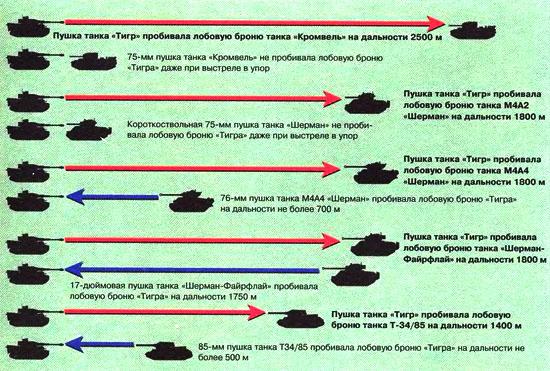ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Военный конфликт - в далёких монгольских степях на границе с Маньчжурией, у никому доселе неизвестной речки Халхин-Гол. С точки зрения советского Генштаба, это была идеальная возможность на практике проверить теорию «глубокой операции» в, так сказать, лабораторных условиях, без серьезного риска и с минимальными потерями. Теория «глубокой операции» требовала создать над противником серьезный перевес в силах – этот перевес был создан (против 25 японских батальонов у нас было 35, против их 1283 пулеметов мы имели 2255, против их 135 полевых орудий мы выставили 220, против их 142 противотанковых и батальонных орудий у нас было 286). Теория «глубокой операции» требовала сконцентрировать на направлении главного удара большие танковые массы – эти массы были сконцентрированы (против 120 легких японских танков и броневиков мы выставили 498 танков и 346 бронемашин).
 Японский легкий танк
Японский легкий танк Советский БТ-5 и БТ-7 атакуют.
Советский БТ-5 и БТ-7 атакуют. В общем, сделано было всё – а в результате? В результате мы одержали победу. За два месяца боёв мы убили 17 045 японских солдат и офицеров, и ещё как минимум более тридцати тысяч ранили, мы захватили почти всю тяжелую технику двух японских дивизий и двух отдельных артиллерийских полков, мы навсегда отбили охоту у японцев пробовать РККА на излом и… мы навсегда (как тогда казалось) похоронили в песках у Баин-Цагана теорию «глубокой операции». И сделала это 11-я легкотанковая бригада комбрига М.П. Яковлева. В ночь на 3 июля ударная группа генерала Кобаяси (23-я пехотная дивизия в составе 71-го и 72-го пехотных полков, 26-й пехотный полк, два отдельных артиллерийских дивизиона) начала переправу на западный берег реки Халхин-Гол в районе горы Баин-Цаган и к восьми часам утра, полностью переправившись, захватила эту господствующую высоту, после чего, закрепившись, выслала разведдозоры к югу. Для того, чтобы переломить весьма опасную ситуацию (японцы ставили под угрозу снабжение всех советско-монгольских войск на восточном берегу Халхин-Гола), командующий 1-й армейской группой комкор Жуков отдал приказ своему подвижному резерву нанести удар по японцам и отбросить их за реку. В 9 часов утра 11-я отдельная лёгкотанковая бригада вошла в боевое соприкосновение с японцами – и с этого момента началось Баин-Цаганское сражение. Что представляли из себя прорвавшиеся на западный берег Халхин-Гола японцы?
 Подбитый пушечный БА-10
Подбитый пушечный БА-10 Согласно «Nomonhan. Japanese-Soviet Tactical Combat 1939», 23-я пехотная дивизия (на западный берег переправились два её пехотных полка) имела в своём строю около 12 тысяч солдат и офицеров, 17 37-мм противотанковых орудий «тип 94», 36 75-мм полевых пушек «тип 38» (лицензионное крупповское орудие, сродни нашей «трёхдюймовке») и 12 100-мм гаубиц (правда, неизвестно, переправили ли их японцы на западный берег), плюс к тому в каждом пехотном батальоне было по две 70-мм батальонные гаубицы. Кроме того, в отдельных дивизионах у японцев имелось ещё четыре батареи противотанковых орудий – всего, таким образом, группа Кобаяси могла рассчитывать на 33 противотанковые пушки. Надо сказать, негусто.
 Японский танк Хо-Го не для командиров РККА
Японский танк Хо-Го не для командиров РККАВ 11-й ОЛТБ по состоянию на утро 3 июля насчитывалось 156 лёгких танков БТ-7. Вместе с танкистами в атаку на японцев двинулась также 7-я мотоброневая бригада (154 бронеавтомобиля БА-6, БА-10, ФАИ), бронедивизион 6-й монгольской кавалерийской дивизии (18 бронеавтомобилей БА-6), приданный в качестве усиления 3-му батальону 11-й танковой бригады, и бронедивизион 8-й монгольской кавалерийской дивизии (19 бронеавтомобилей БА-6 и БА-10), помогавший 2-му батальону вышеозначенной бригады. Таким образом, против одной слегка усиленной японской пехотной дивизии, располагавшей тридцатью тремя противотанковыми орудиями, советско-монгольские части выставили около трехсот сорока бронеедениц – иными словами, на каждую японскую противотанковую пушку пришлось по десять наших танков и бронеавтомобилей. У японцев, правда, в роли «противотанкового средства» имелись также разного рода экзотические изобретения вроде старательно расписанных советской пропагандой смертников с минами на бамбуковых шестах - но реального боевого значения эти изыски не имели. Если отбросить в сторону весь ворох пропагандистской шелухи, которым густо покрыты события у Баин-Цагана – то с прискорбием можно констатировать крайне неприятный факт. Советско-монгольский бронетанковый кулак не просто не разбил японцев в первые же несколько часов боя – но, фактически, был ими разгромлен. Да-да, именно разгромлен, и лишь помощь подошедших позже 149-й и 24-й стрелковых полков, артиллерийского полка и нескольких отдельных артиллерийских дивизионов, помогла выправить ситуацию, грозившую перерасти в катастрофу. 11-я ОЛТБ, 7-я МББ и два монгольских бронедивизиона на протяжении целого дня безуспешно атаковали едва успевших окопаться японцев – и к исходу 3 июля, потеряв более половины танков и бронеавтомобилей, вынуждены были отказаться от мысли захватить гору Баин-Цаган. 11-я ОЛТБ за этот день безвозвратно потеряла 84 танка, а потери 7-й мотобронебригады и монгольских бронедивизионов, по глухому признанию Жукова, «были ещё больше». Японцы, мало того, что не были наголову разбиты нашим танковым тараном – утром 4 июля они перешли в контратаку – и это стало моментом истины. Таким образом, вся теория «глубокой операции», предполагавшая, что огромный численный перевес в силах и средствах сам по себе гарантирует победу – не состоятельна! Японцы начисто опровергли изыски кабинетных стратегов троцкистской школы! Одна пехотная дивизия, весьма скудно снабженная средствами противотанковой обороны, наскоро окопавшаяся в чужой степи, имевшая весьма ограниченные запасы амуниции – выставив против танковой армады врага силу духа и решимость умереть, но не сдаться - выстояла и удержала свои позиции. И 340 танков и бронеавтомобилей ничего не смогли с ней сделать! Да, к четырем часам утра 5 июля сопротивление японцев было, наконец, сломлено. На склонах горы Баин-Цаган они оставили более трех тысяч трупов, большая часть артиллерии 23-й дивизии была уничтожена советско-моногольскими войсками. Сила, как известно, солому ломит – но что характерно для этого сражения? Японцы отошли на восточный берег реки, и, чтобы по этому поводу не вещали заядлые коммунистические пропагандисты - сделали это по своей воле. Возможности сопротивления были исчерпаны, фокус, как говорится, не удался – стало быть, нужно уходить. Никаких толп унылых пленных, никаких захваченных знамен – японцы оставили на склонах горы лишь своих павших и свои разбитые пушки; они ушли, забрав с собой раненых, уступив превосходящим силам врага, чтобы уже на том берегу начать всё с начала. Такое отступление стоит иных побед!
Вероятности отрицать не могу, достоверности не вижу. М. Ломоносов