
Черниговский змеевик (гривна Мономаха)
Вопрос, казалось бы, "простой": чей образ изображен в виде многоголовой гидры?
Варианты ответов: 1) Борис Александрович Рыбаков:
Прекрасным примером христианско-языческого двоеверия являются
известные амулеты-змеевики, носившиеся на груди поверх одежды. Они
встречены только в больших городах и, несомненно, связаны с
княжеско-боярскими кругами, так как делались не только из меди, но
и из серебра и из золота (Чернигов, Белгород, Смоленск). Дата их
очень расплывчата: появляясь в XI -- XII вв., змеевики продолжают
бытовать вплоть до XV -- XVI вв. Нередко в позднее время они
копировали механически более ранние образцы, что свидетельствует о
том, что этот вид амулетов высоко ценился.
Исходная форма идет из Византии, так как на змеевиках
преобладают греческие надписи с заклинанием от черной немочи
("истеры"), переводимой на тогдашний русский язык словом ДЪН --
"нутро", "внутренность", "утроба". На лицевой стороне обычно
изображался тот или иной христианский сюжет: Михаил архангел,
богородица, Федор Стратилат, змееборец Федор Тирон, Борис и Глеб,
целители Козьма и Дамиан, крещение, распятие и др. Вокруг
христианских изображений по внешней окружности змеевика идет надпись
(обычно греческая с аббревиатурами), в русском варианте выглядящая
так: СТЪ СТЪ СТЪ ГЬ САВАОФ ИСПОЛНЬ НБО И ЗЕМЛЯ СЛАВ ТВО, то есть:
"Свят, свят, свят господь Саваоф; исполнены небо и земля славы
твоей!" 171 Центральное изображение того или иного христианского
персонажа оказывалось вторичным по отношению к такой всеобъемлющей
надписи. Изображенный в центре святой был или только целителем или
борцом со злом, олицетворенным в виде змея, или мог содействовать
только победе в бою, а круговая надпись была прямо обращена к
повелителю всего необъятного макрокосма. Лицевая сторона была вполне
благопристойно-христианской и особого интереса (кроме некоторых
деталей символической орнаментики) для нас не представляет.
171 Орлов А. С. Амулеты "змеевики" Исторического музея. --
Отчет Гос. Ист. музея за 1916-1925 гг. М, 1926, с. 32.
Значительно интереснее оборотная сторона змеевиков,
прилегавшая к груди владельца и невидимая для окружающих. Здесь
господствуют два восходящих к античности сюжета: отрубленная голова
горгоны Медузы со змеями, вырастающими из нее, и змееногая
прародительница скифов, тоже окруженная змеями. Голова Медузы как
апотропей заимствована из очень древнего мифа о подвигах Персея,
отрубившего наводящую ужас голову этого чудища и пугавшего мертвой
головой своих врагов. В скифском искусстве охраняющий, магический
характер изображения головы Медузы очень выразительно представлен на
заклинательной чаше-омфалосе IV в. до н. э. из Куль-Обы (Керчь).
Центр орнаментированной выпуклой стороны занимает углубление ("пуп"
-- "омфалос", центр земли) ; вокруг него идет кольцо с дельфинами и
рыбами, возможно, символизирующее мировой океан. Внешняя окружность
чаши занята 12 изображениями головы Медузы, над которыми в местах
соприкосновения голов размещены еще 12. Все 24 головы, обращенные во
вне, образуют сплошное защитное кольцо со всех сторон. В промежутках
между головами чудовища вычеканены 24 головы длиннобородых старцев
в особых шапках; по сторонам каждой изображено 6 клыкастых кабаньих
рыл; всего на чаше 144 кабаньих головы. Между "морем" и головами
горгон размещены символы Геракла: палица и львиная морда 172. Общий
смысл этой заклинательной чаши ясен: "Да отступит зло от земли и
моря повсеместно!" Старцы, возможно, жрецы, обеспечивающие
довольство, символизируемое свиньями. О существовании каких-то
отголосков мифа о Персее в древней Руси свидетельствует наличие в
русской "Александрии" рассказа о подвигах Александра, будто бы
отрубившего устрашающую голову "Горгонии".
172 Gold der Skythen ans der Leningrader Eremitage. Munchen,
1984, t. 119-120.
Второй вариант, встречаемый на исподней стороне русских
змеевиков, -- змееногая богиня -- прямо связан со скифской легендой
о происхождении скифов (кочевых) от Геракла и змееногой богини. Он
тоже хорошо представлен в искусстве царских скифов и, в отличие от
мифа о Персее, может считаться скифской спецификой.
Рассмотрим в качестве примера самый знаменитый из
древнерусских змеевиков -- так называемую "черниговскую гривну".
Этот огромный золотой змеевик принадлежал, по-видимому, Владимиру
Мономаху; он был утерян князем во время охоты на речке Беловосе под
Черниговом, где Мономах княжил с 1076/78 по 1094 г. Эти годы дают
дату змеевика. На лицевой стороне в центре дано изображение
архангела Михаила (покровителя Киева), далее идет кольцевая
греческая надпись "Свят, свят, свят...", затем изображена кольцевая
волнистая линия (мировой океан?), а по внешнему краю даны символы
растительной силы ("крины"), обращенные вовне: "Пусть все вокруг
растет и процветает!" Оборотная сторона содержит обычную надпись
заклинания от "истеры" -- дъны и вторую надпись: Г[оспод]И, ПОМОЗИ
РАБУ СВОЕМУ ВИСИЛИЮ. АМИН. Василий - крестное имя Владимира
Мономаха. Сердцевина оборотной стороны змеевика занята сложной
композицией из десяти драконо-змей, окружающих фигуру, у которой
"верхняя часть туловища была женской, а нижняя -- змеиной" (Геродот,
IV-9). Руки и ноги у фигуры на змеевике переходили в змеиные извивы,
завершающиеся драконьими головами. У девы-змеи обозначены груди и
живот, что полностью исключает предположение об отрубленной голове
горгоны 173. Змееногая богиня считалась прародительницей
скифов-кочевников. Протянуть прямую линию связи от
"волхвов-хранильников" Киевской Руси к далеким скифам (не предкам
славян) затруднительно. К сожалению, нам очень мало известно о
византийских филактериях IX -- XI вв. со змеиными композициями.
Создается впечатление, что подобные композиции (голова со змеями и
дева-змея) на территории Руси встречаются чаще, чем в греческих
землях. Возможно, что восприятие античного мифа и скифской
мифологической традиции происходило при посредстве греческого и
славянского населения дунайско-днестровского угла "Русского моря".
Змеевики XI -- XIII вв. являются прекрасным примером русского
двоеверия, спокойно сочетавшего христианские изображения,
православную "трисвятую песнь" во славу Саваофа с античной
"Горгонией" и змееногой скифской Ехидной. Змеевики с их
антично-скифскими реминисценциями хорошо согласуются и с мифом об
Аиде и Персефоне, и с преданиями об Александре Македонском, пополняя
этот комплекс мифом о Персее и рассказом о днепровско-черноморской
змееногой деве.
Двоеверие являлось не просто результатом терпимости церкви к
языческим суевериям, оно было показателем дальнейшей исторической
жизни аристократического язычества, которое и после принятия
христианства развивалось, совершенствовалось, вырабатывало новые
тонкие методы соперничества с навязанной извне религией.
----
Рыбаков Б.А. Язычество в городском быту 11-13 веков// Язычество Древней Руси, Часть III, ГЛ.12




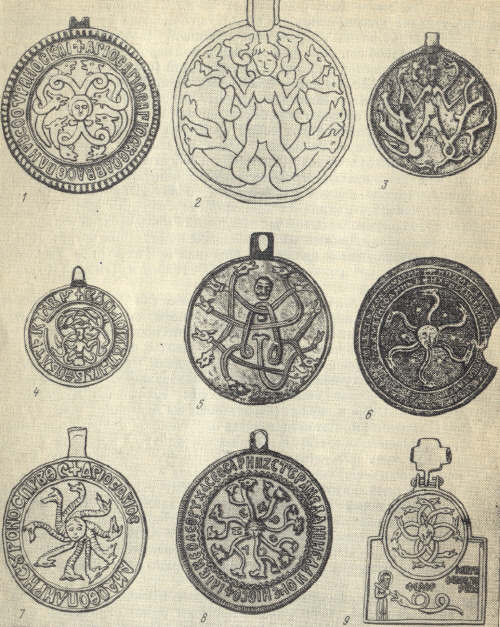
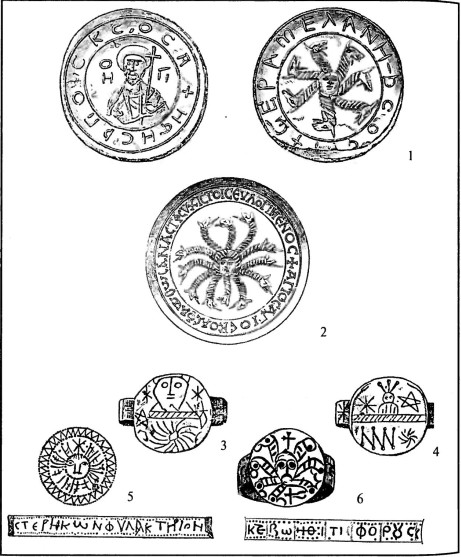




 Сабазий,змеедерево и фаллическая герма.
Сабазий,змеедерево и фаллическая герма.