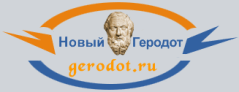Сегодня прочёл в книге А.Ф. Федорова «Подпольный обком действует»:
(Партизанский отряд А.Ф. Федорова числом около 3 тыс. человек по приказу Верховного Командования РККА совершает рейд в районе Западной Украины, принадлежавшей до 39-го года Польше.)
На пути в район Ковеля мы сменили несколько проводников. Одним из них был благообразный Старичок Фома Довжик. Старичок этот запомнился мне тем, что ходил он очень быстро и при этом совершенно бесшумно. Запомнились и его белая бородка, бесцветная домотканная рубашка, плетеный из лыка светлый поясок, светлые, чистые лапти и две пары запасных, висевшие на пояске. Лицо у него было румяное, глазки маленькие, веселые. Казалось, он все знает, все понимает. И когда слушает тебя, по-птичьи наклонив голову, ждешь — сейчас подмигнет и скажет: «Я, дорогой мой, все це давно пройшов!»
……………………….
— Где семья твоя, Фома? — спрашивали партизаны.
Он отвечал спокойно, с улыбкой:
— Маты вмерла, батьку в революцию гайдамаки вбыли. Потим польски паны прийшли. Я робыл, робыл, а грошей все нема, хатыны своей нема, подушки нема. Наволочку сшил, а пера за двадцать пять рокив на подушку не накопил. Яка девка на соломе спать со мной пойдет? Нема в мене семьи, бобылем живу. Так воно легше. Люблю легку жизнь!
— А хотелось тебе, Фома, жениться? Деточек своих иметь?
— Ну, а як же. Кому цьего дила не охота! Тилько заробыть на подушку да на хатыну не смог... Вот, когда тут в 1920 роци Буденный проходил, говорили его комиссары народу: «Ждите, скоро у вас радяньска влада буде — то счастье для бидняка та наймыта». Вот и думал я — приде радяньска влада — женюсь!
…………………..
Вот этот самый Фома Довжик как-то вечером на проверке подошел ко мне. Выражение лица у него было смущенным и встревоженным.
— Тут таке дило, таке дило... Мени нужно... — он осторожно огляделся: не подслушивает ли кто, потом махнул рукой, но и после этого не сразу начал. — Це в моей жизни первый раз. Николы я в жизни своей на людей не доносил ни панам, ни старосте, ни полицаям. А теперь думал, думал — «це ж, говорю соби, Фома, твое начальство, твоя влада». Так я соби уговариваю, а душа не позволяе...
Я понял, в чем дело и что смущает Фому, спросил его, о ком идет речь:
— Местный человек?
— Их двое, товарищ генерал.
Я подумал, что Фома заметил лазутчиков, которые сидят где-нибудь в кустах, ждут удобного случая, и рассердился на него за то, что он теряет время.
— То зовсим не местны люди, — зашептал Фома. — То ваши стары партизаны. И таки воны с виду гарни, та добры — николы б не казал, шо воны другого классу.
— Как, как?
— Кажу другого воны классу — куркули, чи паны.
— Фамилии их знаешь?
— Перший Гриша — молодой, высокий такий. Другий — Василь Петрович — товстый. Земляки воны. Оба черниговские...
— Где они, в каком батальоне?
— Оба из батальону Лысенко. В одной со мною палатке. Тот высокий, Гриша, — минометчик, а товстый в хозчасти робит.
Я начал догадываться, о ком говорит Фома. Но, если это действительно те ребята, о которых я думал, — тени сомнения-не вызывали они у меня. Старые наши партизаны, оба награждены. Гриша был тяжело ранен, лечился в Москве, потом вернулся к нам, бригадир колхоза, Василий Петрович — кузнец из соседнего колхоза...
— Воны, — многозначительным полушепотом продолжал Фома, снова с тревогой оглядываясь, — тилько кажутся крестьянской праци люди и так просты: «Фома друг, Фома хороший человек, сидай, Фома, с нами вечерить. А вчера в ночи...
Фома говорил длинно, подыскивал выражения, запинался. Некоторые слова ему было трудно произносить. Не стану приводить его рассказ целиком. Существо же заключалось вот в чем.
Прошлой ночью, после большого перехода, впервые расставили мы палатки и легли спать по-человечески. Василий Петрович, о котором говорил Фома, человек обстоятельный, натянул палатку из парашюта, раздобыл сена, позвал своего дружка Гришу и, так как в палатке оставалось еще место, пригласил и Фому.
Повечеряли, легли, поговорили о том о сем. Фома заснул. Но через час проснулся. Слышит — ребята все разговаривают. Хотел вступить в разговор, но, услыхав несколько слов, решил лучше помолчать, притвориться спящим.
— Лежу, слухаю и прямо зло бере: ах бисово отродье, куркули проклятые, пробрались до радяньских партизан...
Я вызвал двух названных Фомой товарищей. Они уже позабыли свой ночной разговор — так мало значения ему придавали. Но слово за словом вспомнили. И Фома подтвердил.
— Так воно и було.
Перебирали они довоенную свою жизнь. В тот момент, когда Фома проснулся, Василий Петрович говорил:
— Полетела наша жизнь и вернется ли когда такая? А хорошо жили, дуже гарно! Вспомни-ка, Гриша...
— Вы, Василий Петрович, крепче жили, но и нам, конечно, грех жаловаться...
Так начался этот разговор. Что могло в нем вызвать подозрение?
Василий Петрович вспомнил, как его сын Мишка извозил на мотоцикле два костюма, Гриша посетовал на то, что перед войной купил фотоаппарат, а проявлять снимки не успел научиться, и новую железную крышу не успел покрасить, пожаловался на свою жинку — ругала его, что он много денег тратит на книги, а сама сколько извела их на крепдешин, чулочки, туфельки...
Вот этот обыденный разговор двух колхозников и привел ко мне Фому. Его подозрение было вызвано такими словами, как «мотоцикл», «крепдешин», «костюмы», «фотоаппарат» и особенно «железная крыша» и «книги».
Вечером уже, собравшись все вместе, долго мы втолковывали Фоме, что книги есть у нас в каждом, даже самом бедном крестьянском доме. Он был убежден, что книги, так же как железная крыша, могут быть только у панов.
Небольшое пояснение к вышеприведённой цитате:
Таким образом, в конце 30-х средний советский колхозник жил так же как средний европейский пан (помещик). Обращаю внимание, колхозный кузнец «крепче жил», чем председатель колхоза. В этой связи особенно гомерический хохот у меня вызывает ложь о голодоморе в СССР в 30-х годах.
Конечно, какое-то время, заливая в головы своих подданных потоки лжи об СССР, можно было держать их в повиновении и в нищете. Этому способствовали и первоначальные экономические проблемы в СССР. Но к концу 30-х, когда в «самой расчудесной» стране капитала, в США, умерло от голода несколько миллионов граждан, брехать о несчастной доле советских граждан становилось всё труднее и труднее.
Подчёркиваю, голодомор (несколько миллионов умерших от голода) в 30-х был в США, а не в СССР. Сказки про голод в СССР в 30-х – это враньё от первого до последнего слова. Ни в одной книге-воспоминаниях, людей живших в то время, я не нашёл даже упомнания об этом. Согласитесь, что это как минимум странно и наводит на некоторые размышления.
И вот тут европейские кровососы-капиталисты призадумались. Им то, в отличие от рядовых граждан, реальная ситуация в СССР была известна. Они прекрасно понимали, что «шила в мешке не утаишь» и как бы продажные западные журналюги не изощрялись в сочинении помойного вранья об СССР, скоро правда станет известна всем.
Тогда они прибегли к своему излюбленному способу решения кризиса, т.е. к войне.
Передовым отрядом, как самая воинственная и самая обиженная, была выбрана Германия. Гитлера в результате «демократических» выборов поставили во главе крестового похода против СССР. Остальная Европа должна была лечь под Гитлера. Англия и США, изображая союзников СССР, тайно помогали Гитлеру.
Таким образом во второй мировой войне воевал не СССР с Германией, а СССР со всем Миром (миром капитала). И СССР, в итоге, навалял всему Миру.
Опять у евро-американских кровососов-капиталистов ни чего не получилось. Получилось даже хуже, чем было раньше. После ВОВ вся Восточная Европа оказалась под влиянием СССР, а значит, скоро и там рядовой гражданин мог начать жить как пан. Это в планы кровососов-капиталистов совсем не входило. Опять начать войну с СССР они не могли, наши ребята их бы за неделю с говном смешали и вымыли бы свои сапоги в Атлантическом океане.
Поэтому, кровососам-капиталистам ни чего не оставалось как раскрыть свою мошну и обеспечить среднему западно-европейскому «барану» жизнь такую же сытую как и советскому человеку. Благо СССР в первые 10 лет после войны испытывал естественные в этот период трудности. Потом к власти в СССР пришла банда предателей во главе с Хрущёвым и тут кровососам-капиталистам «карта и повалила».

Только мы с ним похоронили в 1945-м....